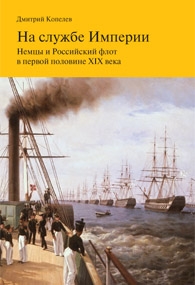Проблематика, связанная с теми или иными вопросами социальной истории, в последнее время приобретает все большую популярность в отечественной литературе. Не оставалась в стороне как тема вооруженных сил, так и тема, связанная с изучением так называемого «немецкого влияния». Однако в историографии отсутствовала специальная работа монографического характера, посвященная социальной истории русского флота в контексте усиления влияния российских и остзейских немцев в правящем классе Российской империи. Работа петербургского исследователя Д. Н. Копелева призвана заполнить данный пробел. Рассмотрев многочисленные отечественные и иностранные работы, а также привлекая обширный архивный материал, автор сформулировал и решил поставленную им самим задачу. Судя по введению, автор «счел бы свою задачу выполненной, если бы ему удалось продемонстрировать, как формировались механизмы властного влияния немцев в имперских структурах, как действовали немецкие «сети доверия» и складывались профессионально-фамильные группировки, пронизывавшие флотский организм». И нужно оговориться сразу, что с конкретно этой задачей автор в целом справился. Д. Н. Копелев рассмотрел биографии 736 морских офицеров «немецкого» происхождения (c. 117) и смог собрать обширный материал социо-генеалогического характера. Автором был сделан ряд важных наблюдений и выводов, касающскладывания и эволюции немецко-остзейской группировки на Балтийском флоте. Ему удалось подчеркнуть тот факт, что складывание этой группировки произошло в исторически сжатый период первой половины XIX в., поскольку в более раннее время количество остзейских немцев на русской военно-морской службе исчислялось единицами (с. 125). Автор также отметил неоднозначные механизмы складывания собственно дворянской остзейской корпорации, в которой достаточно четко выделялся «местный» и «пришлый» элемент (с. 194), поскольку социальная замкнутость остзейского сообщества никогда не была полной. Исследуя профессиональные и социальные корни морских офи- церов немецкого происхождения, автор применил метод, хорошо зарекомендовавший себя еще в работе английского военно-мор- ского историка М. А. Льюиса, вышедшей полвека назад1 . Этот метод заключался в подробном исследовании взаимосвязи между карьерным ростом офицера и происхождением его родителей. Правда, британский автор в этом вопросе продвинулся несколько дальше, поскольку привел более подробную статистику проис- хождения моряков еще и по «географическому» принципу2 . На- рисовав репрезентативную картину цифрового, должностного и количественного выражения «немецкого» присутствия на флоте (c. 124, 128–129, 244), Д. Н. Копелев смог перейти к более широ- ким обобщениям. Во-первых, с точки зрения автора, налицо был процесс формирования «династийности». Во-вторых, данный процесс протекал в русле общей политики ассимиляции инород- ческих элементов внутри Российской Империи (c. 233, 236, 241). В-третьих, внутри самой «остзейской корпорации» происходило постоянное размывание старых, связанных с русской службой на протяжении нескольких поколений, фамилий за счет мощного притока «свежей крови» в лице немецких дворян совсем недавно имматрикулированных балтийским рыцарством (c. 114). Правда, необходимо отметить тот факт, что автор невольно склоняется к той точки зрения, что патронат, семейственность и формирование династийности выступали едва ли не единствен- ным мотором складывания слоя военно-морских специалистов, карьеры которых он исследовал (c. 288–289). Спорен и ряд других выводов Д. Н. Копелева — вроде утверждения, что создание адмиралом И. Ф. Крузенштерном в 1829 г. Офицерского класса при Морском корпусе3 являлось шагом на пути интеграции мор- ских офицеров в «гражданское общество» (c. 139). В этом случае читатель будет вправе спросить: в каком же тогда контексте над- лежит, например, рассматривать действия генерал-адъютанта А.-А. Жомини, увенчавшиеся открытием в Петербурге академии Генерального штаба в 1832 г.? По логике автора получается, что и в этом случае речь должна идти об интеграции в «граж- данское общество» офицеров теперь уже императорской армии! Но не будем придираться к формулировкам, поскольку далее хотелось бы подчеркнуть куда более важный недостаток моно- графии Д. Н. Копелева, связанный с искусственным и немотиви- рованным сужением исследовательской задачи.
Читать далее:
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Krivopalov_02.pdf








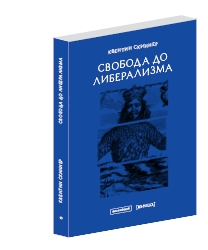


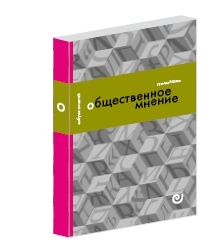

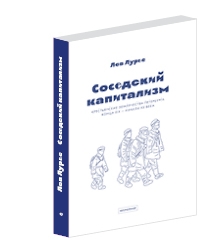
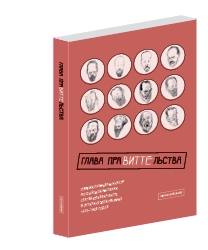


 Электронные книги
Электронные книги