В целях обеспечения максимально комфортного посещения нашего сайта для Вас мы собираем и используем файлы cookie на нашем сайте в технических и маркетинговых целях. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на использование cookie.
Акции
Темы
- 10 лучших книг EUPRESS
- авангард
- антропология и этнология
- визуальность
- история
- история искусства
- климат
- культурная память
- мемуары
- научно-популярная литература
- политическая теория
- раритет
- социология
- филология и культурология
- философия
- экономика
Серии
- Avant-garde
- Modernite
- Res Publica
- terra/teoria
- Азбука понятий
- Прагматический поворот
- Прожито
- Учебники ЕУ
- Эпоха войн и революций
Рецензии и отзывы на книгу «ЖИТЬ С ДОСТОИНСТВОМ
сборник статей»
|
Авторская колонка Ведомости, 20 октября 2015 Существует любопытное сходство между аргументами тех, кто вместе с президентом Путиным определяет политику России, и тех, кто находится в оппозиции к этому курсу. И те и другие апеллируют к понятию достоинства. С одной стороны, от консерваторов часто приходится слышать высказывания, что Россия долгое время была унижена, с ней не считались. Например, по украинским вопросам Европейский союз просто игнорировал позицию РФ в течение долгих переговоров 2013 г., настаивая на том, что отношения «ЕС – Украина» – это предмет двусторонних переговоров между этими странами, а Россия здесь ни при чем. Америка же до этого просто практиковала двойную мораль – навязывая России такие правила поведения (например, соблюдение прав человека, невмешательство в дела суверенных государств), которым сама не следовала. И те и другие просто не замечали легитимные интересы России или относились к стране как к пустому месту или как к ребенку, которого можно легко проигнорировать или обмануть. Достоинство России было унижено, но теперь она самым решительным образом «встала с колен». Читать далее: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/21/613645-dostoinstvo-kak-politicheskaya-kategoriya |
|
|
НЛО №160 В последнее время проблема достоинства все чаще становится в России предметом научных дискуссий. Инициатором самых интересных обсуждений выступает Ев ропейский университет в Санкт-Петербурге. В декабре 2015 г. в ЕУСПб состоялся семинар, посвященный понятию достоинства; в начале июня 2017 г. — совместная конференция «Нового литературного обозрения» и ЕУСПб на тему «Достоинство как историческое понятие и как центральная категория нашего времени» (материалы этой конференции опубликованы в двух тематических блоках в № 151 «НЛО»); и вот теперь издательство ЕУСПб выпустило сборник статей, призванный теоретически прояснить этот обманчиво прозрачный концепт. Читать далее: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/160_nlo_6_2019/article/21808/ |
|
|
Защитим достоинство – своё или страны? s-t-o-l.com – История термина «достоинство», пожалуй, совпадает с историей мировой культуры, поэтому говорить о нём сложно. Однако приходится, поскольку это понятие оказалось чрезвычайно востребованным в ХХI веке. Импульсом к подготовке нашей книги «Жить с достоинством» стало простое наблюдение: мы увидели сходство аргументации в речах нашего президента и оппозиции, которая выходила на улицы после выборов 2011–2012 годов. Оба лагеря говорили о достоинстве, несмотря на то что противостояли друг другу. Скажем, когда мы анализируем речи президента на Валдайском форуме и тем более его Мюнхенскую речь, мы видим, что важнейшая их тема – это тема достоинства страны, которое было попрано и которое нужно восстановить. А оппозиция в 2012 году апеллировала к категории личного человеческого достоинства, которое оказалось, как они считали, унижено массовыми фальсификациями, тем, что власть не продемонстрировала уважения к своим гражданам, отнеслась к ним как к пустому месту и так далее. Таким образом, единственное различие в том, что правящие слои говорили о достоинстве страны, указывая на Америку с её двойными стандартами, а митингующие – о достоинстве гражданина, указывая на власть. Обе стороны говорили на одном языке, но не понимали друг друга. Читать далее: https://s-t-o-l.com/gosudarstvo-i-chelovek/zashhitim-dostoinstvo-svoyo-ili-strany/ |
|
|
НЗ № 128 (№6 / 2019) В книге с интригующим и многообещающим названием «Жить с достоинством» с точки зрения политической философии рассматривается категория достоинства и ее функционирование в российском обществе. Сборник статей включает в себя три текста, посвященные разным аспектам данного понятия. Книгу открывает работа филолога Бориса Маслова, в которой он анализирует две античные традиции понимания достоинства, а затем показывает, какое место они находят сегодня в русском языке. Маслов обращается к текстам Цицерона и Перикла, чтобы показать, что греческое и римское понимания достоинства значительно отличались друг от друга. Так, для Цицерона достоинство гражданина заключалось прежде всего в некой присущей ему самодостаточности и порядочности: «главные признаки dignitas – аура самодостаточности, которая окружает благородного человека, сдержанность в собственных притязаниях на власть, непринужденность в деле обретения социального веса» (с. 17). Филолог называет такое понимание достоинства «абсолютным». Это дает повод противопоставить его греческому пониманию, в котором данная величина была скорее «относительной», то есть достигаемой. Источником для анализа исследователю служит надгробная речь Перикла, в которой достоинство – αξία – предстает результатом благородных поступков, совершенных на благо полиса, то есть является заслугой. Русская традиция понимания достоинство вобрала в себя обе античные традиции, добавив в нее и свои оттенки, связанные с добродетелью и нравственным совершенством. Именно это отличает нашу традицию от европейской, где эти понятия разведены. Читать далее: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/128_nz_6_2019/article/21914/ |
|
|
«Дайте хотя бы не думать о голоде» znak.com Книжка про достоинство вопрос высокомерия не затрагивала, да и есть ли очевидный эмпирически регистрируемый рост высокомерия чиновников — вопрос спорный. Потому мне сложно что-то сказать на базе этой книжки в ответ на ваш вопрос. Но скоро в серии «Азбука понятий» издательства Европейского университета выйдет другая моя книжка под названием «Республика». В ней я рассматриваю механизмы современной власти и прихожу к выводу об олигархизации власти на местах, например в муниципалитетах. Это когда муниципалитетом управляют 20–50–100 человек и их ротация достаточно слаба. Этих людей можно даже пожалеть за то, что на их плечах лежит тяжелая ответственность за функционирование городского хозяйства, а это требует большого напряжения, горения на работе. В интервью, которые мы делали в конце 2000-х годов в Череповце, директора муниципальных предприятий рассказывали, какой это кошмар, когда первые две недели каждого года вся страна пьет, а тебе с утра надо послать бригаду, чтобы устранить ночную аварию и не допустить остановки отопления или водоснабжения, ну и скандала по этому поводу. Читать далее: https://www.znak.com/2019-09-30/chto_est_dostoinstvo_dlya_millionov_rossiyskih_bednyakov_intervyu_filosofa_olega_harhordina |
|
|
Презентация издания в Шанинке Фонд Гайдара |







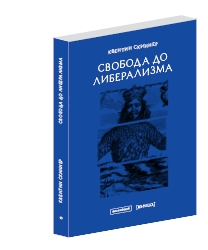



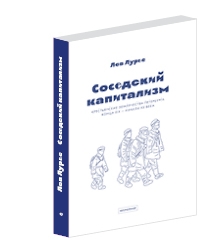
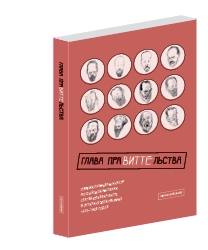


 Электронные книги
Электронные книги


