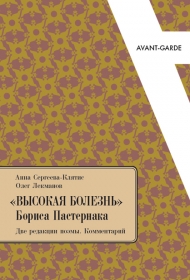Перед нами, по сути дела, первое научное издание «Высокой болезни» – самой загадочной (и, на наш скромный вкус, самой сильной) поэмы Бориса Пастернака. Интрига заключается, однако же, в том, что существует две – принципиально отличные – редакции поэмы. Первая («лефовская»), датированная 1923 годом, печатается второй. Сомнительное понятие последней авторской воли, увы, еще окончательно не отменили, хотя в случае множества авторов – от Андрея Белого до Николая Заболоцкого, от Велимира Хлебникова до Ильи Сельвинского – очевидна ее нерелевантность. Творчество Пастернака – из этого же ряда. В похожих ситуациях хорош французский текстологический метод генетической критики, но в данном случае блестяще подготовившие том Анна Сергеева-Клятис и Олег Лекманов пошли другим путем. Том открывает краткий очерк, посвященный истории создания поэмы, затем следует вторая, широко известная редакция 1928 года, несколько более короткая, нежели первая. К ней прилагается подробнейший комментарий, лишь затем публикуется первая редакция (и комментарий к тем ее фрагментам, которые не нашли места во второй). Здесь, нам представляется, Сергеева-Клятис и Лекманов использовали провокативный, почти художественный (что всегда возможно как метауровень научного текста) композиционный прием: ключи ко многим темным местам поздней редакции находятся в ранней, они проступают, извлекаясь, по мере чтения комментариев – и лишь потом соединяются в публикуемой после «лефовской редакции» (вполне авангардный ход в отношении авангардного текста!). Самое важное и интересное здесь в том, что две редакции одной поэмы – про разное. Знаменитый «ленинский» финал «Высокой болезни»: «Чем мне закончить мой отрывок? / Я помню, говорок его / Пронзил мне искрами загривок, / Как шорох молньи шаровой...», и так далее, по всем памятному тексту – просто-напросто отсутствовал в первой редакции. Самоощущение разбалансированности быта, общей растерянности и неприкаянности интеллигента (шире – вообще самосознающего субъекта) в холодном и голодном пространстве постреволюционного города предстает ничем неуравновешенным. Фрагмент, посвященный Девятому съезду Советов помещен здесь в середину текста, как частный эпизод (это сохранено и во второй редакции), но нет финального пафосного выхода вождя. Важнейшим, незамутненным сюжетом поэмы здесь предстает именно мучительное проступание, рождение эпоса («А позади, а в стороне / Рождался эпос в тишине»), остающийся, однако, делом поэта, а не началом его капитуляции перед внешней титанической волей.








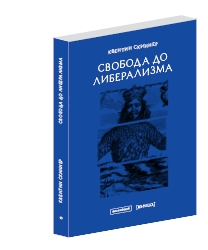


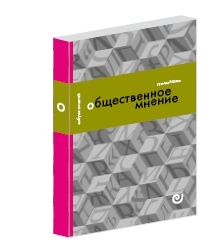

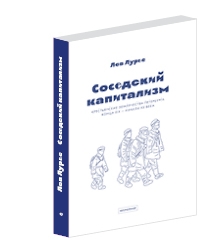
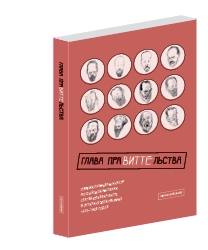


 Электронные книги
Электронные книги