вот эта посвящена героям известнейшим и справедливо известнейшим: поэту Маяковскому, художнику-фотографу, Александру Родченко и их совместной работе поэме «Про это», визуализированной (красивое слово) знаменитым (и скандальным) фотомонтажем. Почему скандальным? Потому что поэма посвящена весьма непростым отношениям Маяковского с его любимой женщиной, Лилей Брик. На обложке поэмы – фотография Лили Брик. Представьте себе, печатает Пушкин стихотворение «Я помню чудное мгновение…», а художник помещает рядом с текстом: «Передо мной явилась ты!» – изображение Анны Керн.
На мой (и не только мой) взгляд «Про это» – лучшая поэма Маяковского. Я был изумлён, когда Набоков в ответ на вопрос интервьюера о лучших русских поэтах ХХ века перечислил: Ходасевича, Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого (здесь я не удивился), добавил ранние стихи Маяковского (тоже ничего удивительного), гениальную поэму «Во весь голос», «испорченную ложной идеологией», но … не назвал «Про это». Перечитав поэму и посмотрев фотомонтаж Родченко, я, кажется, понял в чём дело. Самое задушевное произведение Набокова «Дар» тоже ведь своего рода «Про это» – рассказ об одиночестве поэта и любви поэта к женщине, окружённой мещанским, отвратительным поэту миром.
По таковой причине дотошные набокововеды с большим удивлением извлекают из текста «Дара» «маяковские» метафоры. «Был вором-ветром мальчишка обыскан» (Маяковский «Про это») – «был быстро обыскан ветром» (Набоков «Дар»), скажем. Статьи о «Про это» Маяковского и «Даре» Набокова в сборнике, приложенном к репринтному изданию поэмы, нет. Ну, ничего, ещё напишут. Тема-то благодатная. Зато там масса других статей. Например, о бытовой истории возникновения поэмы, что и говорить, достойной и психологического романа, и психоанализа Фрейда. Такая яркая иллюстрация теории сублимации. На некоторое время Лиля Брик и Маяковский расстались. Попробовали жить отдельно. Она – с мужем, Осипом Бриком. Он – сам по себе. За это время Маяковский а) понял, что не может жить б) написал великую поэму.
Вообще, отношения этих трёх больших, сложных, интересных, талантливых людей: Осипа, Лили Бриков и Маяковского достойны эпиграфа из «Живого трупа» Льва Толстого: «Живут три человека: я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете…» Именно, именно, так что для того, чтобы адекватно писать об этих отношениях, нужно обладать талантом Льва Толстого или Марселя Пруста. Или сухо перечислять факты, что в статье и сделано. Есть статья о взаимоотношениях Родченко, начинавшего с абстрактных композиций, от которых пришёл в восторг Маяковский, и ставшего одним из создателей советского плаката и советского фотодизайна.
Разумеется, есть стиховедческая статья, из которой я узнал, что знаменитая «лесенка» Маяковского была впервые применена Маяковским только в 1923 году, в поэме «Про это». И это не всё. Оказывается, «лесенку» эту не Маяковский придумал. Впервые применил «лесенку» поэт-символист и один из лучших русских стиховедов, Андрей Белый. Но «дорогу делает не первый, дорогу делает второй». Уже хотя бы потому, что второй гораздо проще и понятнее может объяснить, почему он это делает.
Маяковский в статье «Как делать стихи» блистательно объяснил необходимость «лесенки». Если бы Пушкин (писал Маяковский) применял «лесенку», то гордые слова Дмитрия Самозванца не превращались бы у многих и многих артистов в мещанскую скороговорку: «Довольно. Стыдно мне. Пред гордою полячкой унижаться» –
«Довольно.
Стыдно мне пред гордою полячкой унижаться». По-моему, великолепное объяснение.
Есть и статья с попыткой найти некие мистические и метафизические тайны в «Про это». Очень возможно, что в этой фантастической, даже сюрреалистической поэме они и есть. А может и нет. Уж больно она эмоциональна, уж больно хорошо влипает в память:
«Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
убив,
Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Гостье идет по лестнице...
Ступеньки бросил –
стенкою.
Стараюсь в стенку вплесниться …»
Читать далее:
http://www.nlr.ru/prof/reader/activ/advisory_list/vipusk20.html








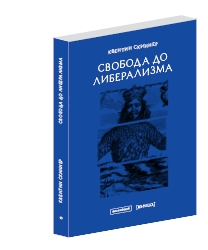


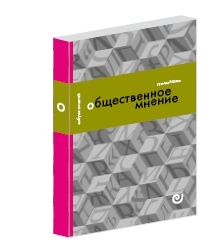

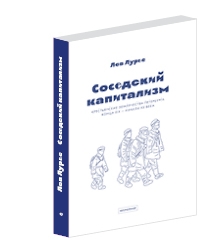
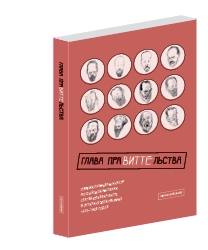


 Электронные книги
Электронные книги



