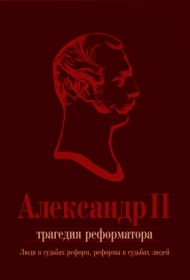Фактически перед нами сборник докладов, точнее, статей докладчиков на международной конференции, проходившей в Европейском университете 14–15 марта 2011 года – спустя 150 лет со дня опубликования Манифеста 19 февраля и 130 лет со дня убийства Александра Освободителя.
Заметной частью книги является «Форум участников конференции. Почему тема реформ Александра II не востребована сейчас научным сообществом и мало (за пределами юбилея) востребована обществом?». В этом разделе участникам ничего определенного констатировать, похоже, не удалось – просто потому, что об общественной востребованности тех или иных исторических событий вообще непонятно, как судить. К тому же общество наше слишком безгласно, а издаваемые им звуки столь нечленораздельны, что выяснить фокус его интереса предельно сложно. Это удел, скорее, не истории, а социологии, где практически любые результаты вызывают жесточайшие споры. Во всяком случае, в масштабе, заметном историку, интереса к тем реформам не обнаружилось точно – если, конечно, не считать таковым всяческие юбилейные мероприятия, организованные различными структурами в рамках явления, называемого «монетизацией юбилейных и памятных дат».
Что не отменяет ценности прочих статей сборника, посвященных тем или иным частным моментам Эпохи великих реформ. Пожалуй, общим и, наверное, самым привлекательным в большей части этих статей является ориентация на законченность высказывания – нет, кажется, ни одной, где бы просто излагался вводимый в оборот эмпирический материал (что, разумеется, тоже имело бы ценность). Напротив, статьи написаны так, словно являются главами некого капитального труда «Эпоха великих реформ 1855–1881» – и в этом смысле они вполне справляются со своей задачей, заполняя лакуны в нашем представлении об эпохе. Практически все статьи сборника, тяготея к биографическому нарративу, пытаются разрушить схематизм представления о событиях эпохи, схематизм, предполагающий абсолютный антагонизм реформаторов и контрреформаторов, принятие решений должностными лицами исключительно в силу собственных убеждений и так далее. В действительности, жизнь полна нюансов, и людям присуща довольно причудливая эволюция убеждений: порой сетка персональных симпатий/антипатий в значительной степени не совпадает с картой отношений, основанных на убеждениях; весомыми моментами оказываются общность происхождения (территориальная и социально-сословная), матримониальные связи и прочее. Да и вообще, редкий человек считает себя носителем какого-либо идеологического или партийного ярлыка, полагая, напротив, себя прагматиком, последователем здравого смысла и приверженцем сложной системы ценностей, не последнее место в которой занимают карьерные успехи и бюрократическая неуязвимость. Вот из подобной совокупности разнонаправленных и изменчивых частных воль и интересов родился вполне определенный вектор реформирования страны. Возможно, установление причинно-следственной связи одного и другого и составляет сверхзадачу исторического исследования Эпохи великих реформ.
Всему вышесказанному соответствует, например, биографический очерк Ксении Сак «Отец и сын: реформатор и поэт (вел. кн. Константин Николаевич и вел. кн. Константин Константинович)». Читая его, мы хорошо видим рамки жизни и деятельности, казалось бы, самого близкого «царю-освободителю» человека, вокруг которого, как принято считать, объединились реформаторы. К сожалению, очерк изрядно подпорчен неудачной редактурой, пропустившей вопиющие ошибки. Так, сам Константин Николаевич, сызмальства носивший высшее в России военно-морское звание генерал-адмирала (I класс по табели о рангах), почему-то упорно зовется контр-адмиралом, что на три чина ниже. Анекдотичным образом при упоминании Карла XII, драбанты из его личной охраны названы брабантами, а место гибели шведского короля – неведомым Страпезундом вместо норвежского Фредрикстена. Впрочем, и то и другое находится внутри кавычек, ограждающих цитату из «Записных книжек» Петра Бартенева, – так что, возможно, совесть автора/издателя сборника здесь чиста. Но и в этом случае имело смысл сделать соответствующее пояснение.
То же, с концептуальной точки зрения, можно сказать и об очерке Александра Шевырева «Во главе “Константиновцев”: великий князь Константин Николаевич и А.В. Головнин», а также о примыкающей к нему статье Валерия Степанова «Министр финансов М.Х. Рейтерн и Александр II: история отношений и сотрудничества». В них на развернутых биографических примерах достаточно ярко показана условность принятого деления деятелей эпохи на «партии»: в действительности эта статическая по своей природе дефиниция не слишком подходит для столь динамической фактуры, как политическое поведение частного человека. Если кто-то когда-то был чьим-то соратником, это вовсе не значит, что в дальнейшем эти же деятели не окажутся политическими противниками (возможно, даже оставаясь в жизни друзьями). Скажем, будущие министры народного просвещения Александр Головнин и Дмитрий Толстой проводили совершенно разную политику – при том, что оба некогда принадлежали к кругу молодых амбициозных чиновников морского ведомства, составлявших окружение великого князя. Пожалуй, читая обо всем этом, трудно избежать аналогий с тем, что мы имели возможность наблюдать сами. Вспомним, как из одной группы молодых экономистов, объединенных общим неприятием советской хозяйственной системы и призванных к руководству экономической политикой России, вышли столь по-разному мыслящие деятели, как Сергей Глазьев, Андрей Илларионов, Анатолий Чубайс и Сергей Игнатьев. Напрашивается и параллель между исторической ролью Александра Головнина, благодаря которому в значительной мере и сложился окружавший великого князя кружок, и тем, что сделал в 1991–1993 годах Алексей Головков, руководитель аппарата правительства Ельцина–Гайдара, фактически создавший это правительство.
В сущности, реформы Александра II – во всех отношениях практически неисчерпаемая умственная пища для исследования возможности благоприятных перемен в нашей стране. И настоящий сборник – хороший материал для подобных размышлений.
Читать далее:
http://magazines.russ.ru/nz/2013/1/k24.html








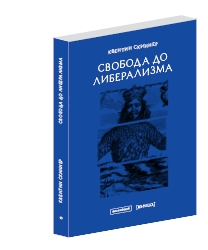


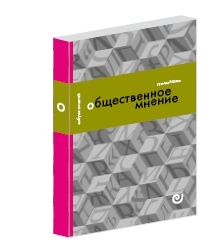

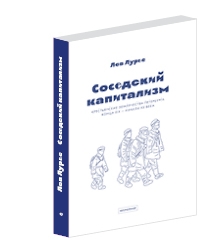
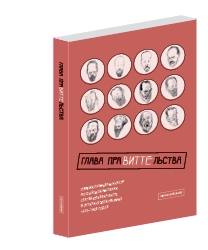


 Электронные книги
Электронные книги